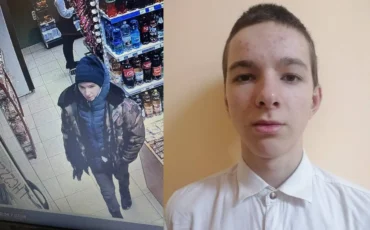Известный белорусский поэт, лауреат Национальной литературной премии, журналист, автор текста к гимну города Пинска Валерий Гришковец закончил работу над романом «Уходя, остаюсь…». По сути, это автобиографическое произведение, личный взгляд на окружавших его людей и события, можно сказать, подробный дневник в художественной упаковке. Отрывок из этого романа (в сокращении) опубликовал журнал «Гаспадыня» (№7(347) июль 2021 г.)) Он посвящён пинским евреям.

Как рассказал «Медиа-Полесью» Валерий Гришковец, полностью публиковать роман он пока не планирует. С разрешения автора электронный вариант отрывка о пинских евреях (без сокращений) мы предлагаем сегодня своим читателям.
«Евреев в Пинске во времена моего детства и молодости было столько, что они воспринимались естественно, как часть городского пейзажа, как само-собой разумеющееся. Были среди них и свои ухари, и уголовники, и всякая-разная рвань. Наверное, не в таком количестве, как в среднем среди белорусов, украинцев и русских, но были. Многих я знал, а с некоторыми и дружил. Ну если не дружил, то был в хороших отношениях. Кстати, не только с пьянью и рванью еврейской я знался, был дружен и с порядочными людьми. Среди евреев, надо сказать, большинство были как раз люди порядочные. По крайней мере, не припомню таких, чтобы открыто желали кому-то зла или бегали по властям с доносами.
Вот пример: кем только не работали пинские евреи! От рабочего литейки и маляра — до директоров предприятий, организаций, учебных заведений. Ну и само-собой — врачи, учителя, музыканты, часовые мастера, парикмахеры, мастера по ремонту холодильников и телевизоров, закройщики и портные, кладовщики…
Много евреев работало в торговле. Торговые работники в СССР — особо привилегированный класс. Ну, не класс, вроде гегемона общества — пролетариата, который «гегемонил» разве что в анекдотах, а самая настоящая привилегированная прослойка общества. Распространяться не буду, скажу только, что торговые работники, даже рядовые, жили получше многих учителей, инженеров, врачей. С одним из них я любил встречаться, особенно по утрам, когда, как мы говорили, горели трубы.
— Ну что, Валера, трубы горят? — завидев меня помятого, спрашивал Муня. — Где тут поблизости?
И мы шли в ближайший магазин. Муня пил, точнее сказать, любил это дело, и мог неплохо приложиться, но не злоупотреблял. А выручить страждущего, считал, как сам выражался, почётной обязанностью, вроде той, что десятилетия красовалась на плакате местного военкомата, где мы и познакомились, когда нас ставили на воинский учёт. Муня от армии, разумеется, отвертелся, но про почётную обязанность защищать Родину не забывал при встрече напомнить. Скорее всего, как про что-то памятное из нашей юности.
— Валера, ты все пишешь, пишешь, а так ни разу и не написал про торговых работников. И тебе выгодно будет — Муня проставит, и мне приятно. Вот, кстати, подскажу тебе начало:
Мы не монтажники, не плотники,
А мы торговые работники…
И Муня весело смеялся своей очередной остроте.
— Думаешь, торговый работник — это что-то халявное? А работа наша, поверь, и опасна, и трудна. В первую очередь, конечно, опасна: не знаешь, когда и кто с проверкой нагрянет. Да и чем она кончится, не знаешь…
Много евреев было в Пинске. И разные люди были. Но не припомню ни одного еврея милиционера. Ни среди офицеров городского и районного отделов, ни подавно среди «городовых». Был замгорпрокурора, был сотрудник КГБ, были адвокаты, и немало, но милиционера не припомню ни одного! Как и судью, как они тогда назывались, народного суда. Что городского, что районного. Немало среди них было и по-своему знаменитых, известных и даже легендарных людей города. Я расскажу о троих из них — легендарных пинских евреях моей юности и молодости. Понимаю, кто-то скажет, ну, гад Гришковец, нашёл о ком писать! Нет, рассказал бы о своём товарище, музыканте и композиторе Олеге Венгере, Гимн Пинска написали, а он? Или о докторе Плоткине, скольким людям жизнь спас, скольким помог, на ноги поставил?.. Или о Рае Боркиной — красавица, артистка, да и жила в соседнем подъезде, а он, негодяй, кого вспомнил? Пьяниц, бандитов!..
Помню и доктора Плоткина, и ещё лучше Раю Боркину. Не раз смотрел ей вслед, но, увы, ни разу так и не подошёл. Поздороваемся и… в разные стороны.
А вот с ними, о ком расскажу, я не только здоровался… Лёня Луцкий, Мотьян, он же Миша Вольфсон и Сенька Нафтолин. Их сторонились даже евреи. Однажды наблюдал такую картину: поддатый Мотьян, завидев возле винно-водочного магазина «Весна» проходящую еврейскую пару, подбежал и во все горло заорал: «Что проходите, жиды, мимо, разве не видите, что другому жиду похмелиться надо!». Эта семейная парочка засеменила от него, как от больного проказой…
Не раз слышал от Мотьяна и такое: «Ну чего мне темнить, кому «фуфло» толкать? У меня на роже написано – “жид!”».
Кстати говоря, среди уголовников, как и среди прочей пьяни-рвани, национальность ничего по сути не определяла, да и не сильно интересовала. Так, между прочим. А по сути, человека судили по его делам и поступкам…
Ближе других я знал Лёню Луцкого. Я жил на «Пожарке», а Лёня — на Поперечной улице. На Поперечной жил и его сверстник Владимир Чуб — будущий губернатор Ростовской области. Но Володя Чуб любил футбол, занимался в ДСШа, неплохо учился и жил незаметно. Немногие в Пинске даже знали, кто такой Володя Чуб, где он жил и где эта самая улица — Поперечная. А Лёня Луцкий вечно сам ходил с фингалами и другим фингалы ставил. Лёню Луцкого в Пинске знали многие. Сверстники — все!
Был он старше меня лет на шесть. Но я знал его с ранней юности, а потом мы не раз бывали в одной компании, не раз гуляли-пили и на пару. В начале и середине 60-х годов была такая профессия — заготовитель. В те времена деревни были ещё многолюдные, люди держали скотину и птицу. Вот заготовители и ездили по деревням — закупали скот и птицу. Наверное, не только у населения, но и в хозяйствах. Сегодня такое просто трудно себе представить: по улицам Пинска гонят огромное — метров сто, если не больше, стадо скота — коровы, бычки, телята. Сзади и по сторонам идут погонщики с палками в руках, а чуть сбоку — заготовитель. В хромовых или яловых сапогах, в галифе из плотного сукна, в брезентовом плаще поверх телогрейки и в кепке или в кожаной шапке-ушанке — хоть летом, хоть поздней осенью. Не припомню, чтобы гнали через город скотину зимой. В правой руке заготовителя — палка, на которую он слегка опирается, иногда помахивает, что-то крича погонщикам. А через плечо — сумка из кирзы на длинном ремне наподобие тех, что на полевых учениях и маневрах носили армейские командиры, правда, значительно объёмней и пухлее. Вокруг таких стад обычно и городская пацанва бегала, так сказать, помогали скотину гнать. Заготовители за это давали на мороженое — 10, 15, 20 копеек — что под руку попадало.
Скотину сгоняли ближе к концу Брестской и направо, в сторону мясокомбината. Здесь, на загородном пустыре, находилось с десяток загонов для скота и гусей. Тут же были и сажалки, из которых скот мог напиться, а гуси поплавать. Скотины и гусей тут было столько, что мясо-и птицекомбинаты не справлялись сразу принять их на бойню. Гусей частично везли прямиком на птицекомбинат — по улице Брестской, затем направо на Полесскую, а там — на Граничную, где и была «птичка». Но в большинстве — грузовиками в загоны — справа от Брестской. А потом уже гнали табунками на «птичку» — дорогой, где сейчас гимназия № 3. На железнодорожные пути клали специальный настил из досок и перегоняли гусей. А там уже — в ворота на «птичку». Кур возили грузовиками — на кузовах стояли огромные клети, в них и везли их на птицекомбинат.
Сегодня уже мало кто и помнит про заготовителей, огромные стада скота и гусей на улицах Пинска. Всё это прекратилось с приходом в город «большой стройки» — Комбината верхнего трикотажа и «Главполесьеводстроя». Вместе с КВТ вырастал Северный микрорайон, а «Главполесьестрой» возводил Западный. Правда, немногим раньше на тогдашней западной окраине Пинска город построил школу-интернат. Вот на этом месте и начинались «стойбища» скота и гусей, и тянулись до самого мясокомбината…
Про заготовителей по городу ходили легенды. Жили они зажиточней не только простых людей, но и директоров, и всех прочих начальников и руководителей. Правда, своим богатством и положением не кичились. Любили и умели выпить и закусить. Кто-то гульнуть с любовницей. Но лично я запомнил их такими: круглый год — в сапогах, брезентухах поверх телогрейки, в засаленной кепке или шапке-ушанке…
За принятый скот и птицу рассчитывались лично, как и брали деньги за сдаваемую скотину и птицу. Так что нетрудно догадаться, какими суммами по тем временам ворочали заготовители. Среди них было, конечно же, немало евреев. Деньги по тем временам в сберкассах, аналог сегодняшнего Госбанка, а других банков тогда просто не было, заготовители если и держали, то в разумных пределах. Милиция и КГБ внимательно отслеживали тех, кто имел в сберкассе большие счета. Люди зажиточные, имеющие постоянный хороший доход, своё состояние, как правило, хранили в загашниках. Скупали золотые «червонцы» — десятирублёвые царские монеты из золота высшей пробы — червонного золота. В Западной Белоруссии, бывшей черте оседлости евреев, «червонцы» имелись в немалых количествах. В 60-е годы один «червонец» стоил «четвертак» — 25 рублей. В 80-е — уже 300 рублей. Не у всякого директора месячный оклад равнялся этой сумме…
Беда для пинских заготовителей грянула в середине 60-х. Кто как погорел, кто и при каких обстоятельствах кого из них сдал, неизвестно. Много слухов ходило. Огороды во дворах домов заготовителей чуть не сутки напролёт перелопачивали матросы Пинской ШМО — школы морского обучения, следователи ОБХС и КГБ перетряхивали вверх дном жилища заготовителей — искали «червонцы». И, надо сказать, находили. Судили пинских заготовителей «за растрату государственных средств в особо крупном размере и денежные махинации в особо крупном размере». Кое-кто получил 15 лет заключения — наивысший тюремный срок, предусмотренный советским уголовным кодеком, а нескольких человек и в том числе отца Лёни Слуцкого приговорили к «вышаку» — расстрелу.
Тогда-то Лёня и пустился во все тяжкие! Злостное хулиганство, кражи, грабежи с разбоем… В Пинске объявлялся нечасто и, как правило, ненадолго. Любил посидеть в ресторане, пил и «с горла» за углом возле «Десятого» на «Пожарке» — совсем недалеко от Поперечной улицы. Всё так же, как и в ранней молодости, хорошо одевался. Был довольно аккуратным и ухоженным. Поговаривали, что Лёня неплохо жил и в тюрьмах, и на зоне. Хорошо играл в карты. Были у него должники по всей Белоруссии и далеко за её пределами. А карточный долг на зоне — дело святое: проиграл — верни или сдохни! Иначе «опустят». Вот Лёня и наловчился безбедно жить и в местах не столь отдалённых. Хотя «сидел» не раз и далеко на Севере.
Был он невысокого роста, но плотно сбитый. По его походке, по тому, как «сидела» на нём одежда, по манере говорить, а был он немногословным, и манере держаться, нетрудно было определить, кто перед тобой. Достаточно было встретиться с ним взглядом, чтобы понять: перед тобой — прожжённый жулик, урка и зэк со стажем…
Последний раз я встретил Лёню в начале лета 2000-го возле «сорокухи». Он только что получил какие-то пенсионные крохи, искал, с кем бы выпить. Взяли вина, перешли на другую сторону — в скверик на месте бывшего матросского сада — родные для нас места. Тут же подошел Петя Савин, он жил в двухэтажке напротив. Ещё какие-то знакомые. Теперь и не вспомню. Не помню и того, как тогда мы расстались. Вскоре я уехал в Москву и Леню больше не видел. Не встречал и спустя три года, когда вернулся окончательно в Пинск. Думал, Лёня Луцкий помер. Во второй половине 90-х — начале нулевых столько поумирало нашего брата — друзей-товарищей молодости, что, кого долго не встречал, так и думал: «крякнул».
А лет семь тому, разговорившись с приятелем, нашим с Луцким общим знакомым, узнал: Лёня доживает в интернате под Барановичами, где содержится «спецконтингент» — бывшие уголовники, психбольные и алкоголики, оставшиеся без жилья и присмотра…
Сенька Нафтолин был заметно старше меня — лет на десять, если не на все пятнадцать. Среднего роста, шевелюра не густая, но кучерявая, лицо круглое, всегда чисто выбритое, с узкими усиками. Парикмахер — золотые руки! Правда, работал по профессии, пока эти самые «золотые руки» не начинали колотиться так, что в кресло к Сеньке никто не садился не то что бриться, а и стричься. Чтобы убрать «профессиональный колотун», Сенька перед работой бежал на «точку». Месяца два-три, а то и полгода это сходило ему с рук, разумеется, не золотых, потом Сенька шёл то в грузчики магазина, то слесарем на завод — куда возьмут. Через год-другой возвращался в парикмахерскую под «честное слово, завязал навсегда!». И всё повторялось снова…
С Сенькой я никогда не сходился близко, да и знаком был, что называется, шапочно. Выпивали в одной компании, и не более. Похмелившись, Сеня обычно запевал: «С утра побрился и галстук новый в горошек синий повязал…», при этом приплясывая на манер опереточного артиста. К слову говоря, тогда в Пинске нередко гастролировали заезжие артисты московской и прочих оперетт. Можно было их увидеть в городком Доме культуры на Черняховской. Давно уже городской Дом культуры в другом месте. Как и многие и многое. А в ДК на Черняховской выступали известные театральные труппы и исполнители — Иосиф Кобзон, Вадим Мулерман, Эмиль Горовец, Людмила Сенчина, Виктор Вуячич… Кобзона и Мулермана не видел, а на концерт Горовца пробрался. Много раз слушал Вуячича. В «сорокухе» был на концерте Марии Пахоменко, Ольги Воронец, каких-то ВИА и других исполнителей. На летней эстраде матросского сада в конце мая 1970-го видел выступление «Лявонов» — будущих «Песняров». Кстати, на концерте «Песняров» я так ни разу и не был…
Билеты мы никогда не покупали. В «сорокуху» пробирались, открыв или взломав задние двери, через которые обычно выходили после кино и концерта. В матросский сад и в ДК на Черняховской перелазили через забор в дальнем углу, возле уборной, заходили в уборную, а потом уже важно проходили в смотровой зал. Чаще всего приходилось смотреть концерт стоя, но в 15-17 лет это труда не составляло…
Сеня Нафтолин в дни трезвой жизни, видать, ходил с супругой на концерты, а может, слушал оперетты во время работы — в парикмахерской советских времен исправно работала «радиоточка», транслируя не только оперетты, но и оперы. Вот и запомнил кое-что. Пил он не менее артистично, нежели постригал. При этом постоянно рассказывал разные истории, небылицы и анекдоты. Пить с ним было одно удовольствие! И на концерты можно было не ходить…
Умудрился Сеня и «посидеть» — года полтора или два. Какого-то мужичонку по-пьяни потоптали ногами. Бил и Сеня, как показал в милиции и суде потерпевший. Открутиться не получилось. В конце 70-х – начале 80-х среди пинской босоты ходила байка:
_Подсудимый Нафтолин, отвечайте суду! Вы били ногами потерпевшего?
— Бил… Но не больно!..
Вроде и печально, и совсем не смешно, но, как правило, вызывало веселый смех.
Правда, сколько его помню, Сеня бандюганом не был. Любил и умел неплохо «прикинуться» — одеться. Был улыбчив и дружелюбен. Умел пошутить, рассказать анекдот, посмеяться.
Вскоре после развала СССР с женой и детьми укатил в Штаты.
А вот Мотьян, он же Миша Вольфсон, много трепавший про Штаты и тамошнюю роскошную житуху задолго до развала Союза, за океан так и не выбрался.
Впервые я увидел Мотьяна, когда мне было лет 14-15. Тёплый майский вечер, цветёт сирень и под кустом сирени, подперев стену «сорокухи», на корточках сидит небольшой, щуплый мужичонка, хрипит под гитарные переборы «Какой я раньше был дурак, носил ворованный пинжак…». Так и произносил: пинжак…
Кто-то шепнул мне: «Это Миша Мотьян». Так я узнал Мотьяна. Пересекались мы нечасто. Скорее всего по причине того, что Мотьян ненадолго задерживался в городе. Месяц, два-три или полгода, а там — по старым адресам: тюрьма и «зона». Правда, в одном месте, не буду говорить где, мы с месяц прокантовались бок о бок.
Уж на что я не высокий, а Мотьян едва мне до носа дотягивал. В отличие от Сени Нафтолина, с кем чаще всего можно было увидеть Мотьяна, одевался он без разбора, что под руку попадёт, а часто и вовсе выглядел просто смешно. Хотя мало кто из нас отличался хорошими «тряпками», Мотьян и вовсе ходил в каких-то странных обносках. Мог нацепить летние белые штаны и потерявшую цвет осеннюю куртку. Вечно в сбитых туфлях или ботинках, в заношенной кепке с длинным козырьком. А то и в «восьмиклинке», которые носили местные деревенские старики. Ходил слегка вприпрыжку, левое плечо приподнимая и выпячивая вперед. Поговаривали, в детстве Миша Вольфсон был круглым отличником, в юности отлично играл в футбол — центральным нападающим, форвардом, как тогда уже говорили. Миша Вольфсон, по слухам, феноменально владел обводкой, мог на кураже обойти трёх-четырёх защитников и забить гол. Но ранняя страсть к алкоголю убила в нём не только талант школьного отличника и центр-форварда, а вообще лишила всего, даже более-менее пристойного вида. Правда, Миша Мотьян, как его называли в третьем лице, умел так рассказывать, так работал «помелом», знал столько небылиц и анекдотов и умел их рассказать до жути смешно, что позавидовал бы сам Аркадий Райкин…
Была у Мотьяна в свое время жена, был сын. Был и брат родной, «женский врач», как говорили. Все они, разумеется, живы-здоровы, но… Мотьяна они по понятным причинам и на порог не пускали. Да он и сам вряд ли пытался ходить к ним. Жил по «тёмным», как он сам говорил, хатам. А потом брат и вовсе укатил за океан. Присылал бывшей жене Мотьяна и его сыну посылки, что-то клал в них и для брата Миши. Не знаю, что-нибудь из этих «дачек» надел хоть раз Мотьян? Вряд ли. А если и надел, то тут же «спулил»…
Свои «концерты», когда попадала в руки гитара, Мотьян обычно начинал с песни «Какой я раньше был дурак…». И хотя «толпа» слышала эту песню в его исполнении десятки раз, никто не перебивал Мотьяна. Дальше он пел что-то из «одесского блатняка», ну, а когда «выступали» на пару с Сенькой Нафтолиным, непременно выдавали «Школу бальных танцев Соломона Пляра». Это, скажу вам, надо было видеть и слышать! В оперетте, даже московской такое вряд ли увидишь! Миша играл и пел, а Сеня «фортеля выписывал» — подпевал, пританцовывал, поводя плечами, крутя головой, размахивая ногами и руками…
Где-то в самом начале 80-х, когда ко мне окончательно прилипла кликуха «Паэт», Мотьян, как сейчас помню, долго искоса смотрел на меня, потом подошёл, задрал ко мне свой большой, кривой нос и такие же большие, чуть навыкате, красные, слезящиеся глаза, спросил: «Братишка, а ты в натуре — поэт?». И так он это спросил, что все, кто был рядом, грохнули со смеху.
Немного выждав, Миша ещё ближе повернулся ко мне левым плечом: «Братан! Вали в Штаты, коммунисты не дадут тебе развернуться!». Снова раздался смех. Но Мотьян как ни в чем не бывало продолжил: «Вот Иосиф Бродский свалил, теперь в Штатах золото лопатой гребет!». И тут же стал декламировать:
Мимо ристалищ, капищ,
Мимо храмов и баров,
Мимо шикарных кладбищ,
Мимо больших базаров,
Мира и горя мимо,
Мимо Мекки и Рима,
Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы…
Так впервые я услышал имя Иосифа Бродского и его стихи. Меня они, помню, ошеломили. Я не раз потом при встрече с Мотьяном просил его почитать еще что-нибудь, но ничего больше из Бродского Мотьян не знал: «Братишка! Это мне на пересылке в “Крестах” питерский кент подбэндил…».
Я как-то спросил Мотьяна:
— Миша, откуда ты столько знаешь? И всё помнишь?..
— Братан! Так за плечами — семь ходок! Архангельский лесоповал, Северный Урал. Я знаю всю братву Союза. И меня вся братва знает! Я не пил только с Римским папой и лондонской мамой.
— А с Андроповым, Мотьян? — Тут же сострил кто-то.
— Да я с ним на одном поле срать не сяду, не то что пить буду!..
В последний раз Мотьяна я встретил зимой, сразу после развала СССР. Он шёл в небольшой компании. В каком-то заношенном длинном пальто, в хромовых сапогах до колен, в мятой кепке, насаженной на уши, и сам был какой-то весь мятый. Поздоровались. Миша, как сейчас помню, сразу же спросил:
— Братан! Так ты так и не свалил?! По-прежнему в Пинске канаешь? А я скоро сброшу оковы социализма! — И двумя руками показал на свои ноги в хромочах. — Нет, не здесь! Специально пойду в самолет в сапогах — пусть американцы видят, в чём Мотьян ходил в Союзе. А выйду из самолета в аэропорту Нью-Йорка, меня обступят журналисты, вот я перед объективами и сброшу «оковы социализма»!
И приподняв сперва одну ногу, затем другую, Миша продемонстрировал, как он будет сбрасывать «оковы социализма».
Увы, увы. Через месяца два-три, холодным весенним днём по пинскому базару, что в центре города, ходила компашка блатюков, собирали деньги на похороны Мотьяна. Накануне набрали «пойла» и кто-то зазвал на свою квартиру. Выпили, решили поджарить мяса. Нарезали. Пока высыпали на сковороду, Мотьян с голодухи схватил кусок и бросил в рот. Ну, бросил и бросил, никто и внимания не обратил, пока Миша по полу кататься не стал. Спохватились, стали колотить по спине, побежали вызывать «скорую»…
Приехала «скорая», вызвали милицию: асфиксия. Бедолага Миша помер голодным, так и не сбросив «оковы социализма». Правда, похмелившись и навсегда оставшись в родном Пинске…
Чтобы следить за важными новостями, подписывайтесь на наш канал в Telegram и группы в социальных сетях: Вк, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТикТок.